ФГБУ “Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского” Министерства здравоохранения Российской Федерации
Б.С. Положий, Е.А. Панченко
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (детерминанты, клиническая динамика, типология, профилактика)
Суицидальное поведение (детерминанты, клиническая динамика, типология, профилактика): Монография. Положий Б.С., Панченко Е.А. – М.: ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России, 2015 |
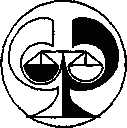
Москва 2015
УДК 616.89
ББК 56.14
П52
Монография подготовлена сотрудниками ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России доктором медицинских наук, профессором Б.С. Положим, кандидатом медицинских наук Е.А. Панченко.
Издание рекомендовано к печати на заседании Ученого совета ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России 22 декабря 2014 г., протокол №2.
П52
Положий Б.С., Панченко Е.А. Суицидальное поведение (детерминанты, клиническая динамика, типология, профилактика): Монография. – М.: ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России, 2015. – 250 с.
Представленная монография базируется на результатах многолетних исследований суицидального поведения, проводившихся при непосредственном участии авторов. Основное внимание уделено анализу суицидального поведения лиц, совершивших суицидальные попытки. В монографии подробно описаны биологические, личностно-психологические, клинические и социальные детерминанты суицидального поведения. Отражены характеристики суицидального поведения и их современные особенности. Представлена разработанная авторами типология суицидов. Предлагается собственный вариант превентивной модели суицидологической помощи.
Для психиатров, психотерапевтов, суицидологов, клинических психологов, организаторов здравоохранения.
ББК 56.14 |
||
© Б.С. Положий, Е.А. Панченко, 2015. © ФГБУ “ФМИЦПН” им. В.П.Сербского Минздрава России, 2015. |
||
4.8. Маскированный тип
Отличительной особенностью маскированного типа суицидального покушения является отсутствие осознаваемого суицидального намерения и его последующее отрицание. При этом наблюдается снижение инстинкта самосохранения на фоне наличия фрустрированных потребностей и ослабления антисуицидальных факторов. Всего в нашем исследовании подобный тип суицидальных попыток установлен у 5,8% от общего количества суицидентов. Важно, что около половины из них были квалифицированы как условно психически здоровые. По нашему мнению, маскированный тип суицидального поведения представлен в популяции гораздо в большей степени, однако диагностика этих форм поведения как суицидальных крайне затруднена. В большинстве случаев они расцениваются как несчастный случай.
Среди лиц, совершивших маскированную суицидальную попытку, было 52,1% мужчин и 47,9% женщин. Представители возрастных групп “30–39” и “60–69” лет отсутствовали. По нашему мнению, эта особенность была случайной и объяснялась малым количеством наблюдений. Анализ социального статуса показал, что половина суицидентов была представлена пенсионерами и по 25% – безработными и студентами. 50% суицидентов не имели собственной семьи.
В досуицидальный период отмечалась склонность к алекситимии и, как следствие, к психосоматическим заболеваниям. Все пациенты с трудом вербализовали собственные ощущения, чувства и переживания. В ситуациях стресса наиболее характерными являлись психологические защиты по типам вытеснения и изоляции аффекта. Неприятная информация вытеснялась из сознания и легко забывалась. Однако негативный эмоциональный заряд продолжал “разрушительное” воздействие на психическую и соматическую сферы пациентов. У них имел место высокий уровень внутренней цензуры, не позволяющей “запретным” эмоциям и побуждениям подниматься на поверхность. Вытесненный эмоциональный фрагмент становился объектом сознания вторично в виде сновидений и непреднамеренных случайных действий, что и ложилось впоследствии в основу формирования суицидального поведения.
Родительские семьи отличались достаточно строгим типом воспитания, с высокой степенью ориентации на социальные правила и нормы. В то же время в этих семьях не приветствовалось проявление ярких эмоций, которые необходимо было скрывать и не демонстрировать окружающим.
Так как маскированный суицид отличался отсутствием осознанной вовлеченности пациента в суицидальный акт, то описание субъективной картины пресуицидального периода было затруднено. Однако, как со слов самих пациентов, так и со слов ближайшего окружения, незадолго (от 1 до 3 месяцев) до “несчастного случая” у пациентов отмечались депрессивные переживания разной степени тяжести. Другой особенностью пресуицидального периода было наличие объективной психотравмирующей ситуации, которую пациенты осознавали и оценивали как болезненную и бесперспективную. Разумеется, подготовка суицида отсутствовала. Психическое состояние незадолго до “несчастного случая” пациенты описывали как тоску, тревогу, чувство бесперспективности. При обстоятельствах попытки всегда присутствовал элемент “вины” – забывание, игнорирование угрозы, умышленное несоблюдение техники безопасности и т.п.
Суицидальная попытка всегда выглядела как несчастный случай. Характерно, что и сами пациенты были убеждены в случайности произошедшего. Так, 3 человека “случайно” оставили включенным газ на ночь. Во всех случаях они находились дома одни. 1 пациент, находясь на садовом участке, ночью “по ошибке”, вместо заваренного настоя трав выпил жидкость для удобрения растений, другой – был сбит автомобилем при попытке перейти дорогу. 2 пациентов получили удар током во время ремонта электричества, не соблюдая технику безопасности. Еще 1, страдавший инсулинозависимым сахарным диабетом, стал регулярно “забывать” делать себе инъекции. К летальному исходу все эти попытки не привели лишь вследствие вмешательства других людей.
По нашему мнению, маскированный суицид может принимать самые разнообразные формы, например, рискованное вождение автомобиля или управление им в состоянии алкогольного опьянения, занятие экстремальными видами спорта, передозировка лекарственных препаратов, игнорирование тяжелых соматических заболеваний и т.п. Эти реакции характеризуют большой пласт суицидального поведения, требующий более тщательного изучения.
Во всех случаях постсуицидальный период протекал с отрицанием суицидальной попытки. Однако пациенты признавали наличие у себя депрессивного или субдепрессивного фона; сообщали о воздействии тяжелых психотравмирующих ситуаций; не отрицали наличия антивитальных переживаний и суицидальных мыслей, которые, однако, не достигали степени суицидальных замыслов. Риск повторных суицидальных действий был умеренным, но возрастал, если пациент оставался без психокоррекционной помощи.
В нозологическом отношении в половине случаев – 46,2% (мужчины – 33,3%; женщины – 57,1%) – был диагностирован депрессивный эпизод. Причем преимущественно он носил характер ларвированной (скрытой, соматизированной) депрессии.
Таким образом, особенностью маскированного типа суицидальной попытки было отсутствие осознанного суицидального намерения. Попытка бессознательно маскировалась под несчастный случай, который совершался на фоне выраженной фрустрации и ослабления действия антисуицидальных факторов. Период, предшествующий “несчастному случаю”, протекал на фоне депрессивных и субдепрессивных переживаний, сопровождался влиянием психотравмирующих ситуаций. Среди личностных особенностей отмечалась высокая склонность к реакциям вытеснения, что проявлялось в алекситимии, склонности к соматическим заболеваниям, “ошибочным, “случайным” действиям. Постсуицидальный период протекал с отрицанием суицидальной попытки. Риск ее повторного совершения – умеренный.
Больная Т., 1958 года рождения.
Родилась в Москве, вторым ребенком в семье. Мать пациентки наблюдалась у психиатра по поводу депрессии, пыталась покончить с собой, когда дочери было 8 лет. Беременность матери протекала без особенностей, роды в срок, ранее развитие соответствовало возрастным нормам. Посещала детский сад. В школу пошла с 7 лет. Училась посредственно, предпочитала точные науки. Себя характеризует спокойной, дисциплинированной, не склонной к лидерству, доброй. Обстановку в родительской семье описывает как некомфортную, отец был очень строгий и требовательный, бил мать и старшего брата. Мать была тихой, покладистой, тяжело переживала из-за сложного характера мужа, однако продолжала сохранять брак, так как считала, что сама не сможет материально обеспечить детей. Закончив 10 классов, пациентка поступила в технический институт, закончила его и с тех пор работает проектировщикам в строительно-монтажном управлении. В браке с 26 лет. От брака имеет сына 21 года. Отношение с мужем оценивает как крайне тяжелые, так как муж страдает алкоголизмом. Однако главная проблема пациентки – это сын, который страдает наркотической зависимостью с 16 лет. В анамнезе – бронхиальная астма, гипертоническая болезнь, операции: холицистэктомия; удаление миомы матки. Вредных привычек нет.
Ранее психиатрами не наблюдалась. Когда пациентке было 8 лет, ее мать из-за конфликта с отцом совершила суицидальную попытку путем самоотравления: выпила нелетальную дозу снотворного на ночь. Утром отец не смог ее разбудить, вызвал скорую помощь, была госпитализирована в психиатрический стационар. Эта ситуация проходила на глазах у детей и произвела сильное впечатление на пациентку. В дальнейшем она часто задумывалась о том, что мать тогда могла умереть. Примерно с подросткового возраста ловила себя на мысли, что матери было бы лучше, если бы она тогда умерла, так как мать была глубоко несчастна всю свою жизнь. Антивитальные переживания стали появляться 5 лет назад, когда сын стал употреблять наркотики. При этом резко ухудшилось собственное здоровье, обострились соматические заболевания. Муж продолжал пить. Когда становилось особенно тяжело, думала о том, что “ничего хорошего в жизни уже не будет”, размышляла “хватит ли у нее сил справиться со всеми испытаниями”. 3 года назад, во время операции, подумала о том, что под наркозом было бы хорошо умереть и больше ни о чем не беспокоиться. Однако мыслей о самоубийстве не возникало, так как считала, что без нее у сына никого не останется. Она единственный человек, который его кормит, содержит, пытается помочь избавиться от наркотической зависимости. За месяц до “несчастного случая” сын перестал употреблять наркотики, пройдя дорогостоящий курс лечения. При этом он чувствовал себя нормально, пребывал в хорошем настроении. Пациентка решила, что “все плохое осталось позади”. Однако в день, когда произошел “несчастный случай”, узнала, что сын вновь вернулся к наркотикам. Проплакала весь день, так как “понимала, что сил больше нет”. Вечером, приготовив ужин, “случайно оставила включенным газ”, так как “была очень уставшей, разбитой, расстроенной” и легла спать. Соседка, почувствовав запах газа в 2 часа ночи, вызвала газовую службу, которая и обнаружила пациентку уже без сознания. После проведения необходимого лечения в соматическом стационаре была проконсультирована психиатром и направлена на лечение в психиатрический стационар. Пациентка категорически отрицает суицидальную попытку, утверждает, что “никогда не оставила бы сына одного”.
В приведенном примере прослеживается наличие суицидальных переживаний в досуицидальный период, имеет место суицидальный конфликт как повод для совершения суицида, неосознаваемые механизмы его совершения. Все это в совокупности с обстоятельствами “несчастного случая” позволило диагностировать суицидальную попытку маскированного типа.
Сопоставление типов суицидальных попыток с клинической формой психической патологии показало, что органические психические расстройства чаще встречались в группе суицидентов, совершивших витальный суицид. Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, более характерны для лиц, совершивших суицидальную попытку аффективного и амбивалентного типов. Расстройства шизофренического спектра – витального и институционального типов. Аффективные (депрессивные) расстройства чаще всего встречались у пациентов с амбивалентным и маскированным типами суицидальной попытки, невротические расстройства – спонтанного типа. Расстройства личности оказались наиболее характерными для ситуационного и спонтанного типов суицидальной попытки. Причем в случае спонтанного суицида чаще диагностировалось расстройство возбудимого типа, а при ситуационном – истерического, эмоционально-неустойчивого и диссоциального. Умственная отсталость чаще встречалась в рамках аффективного типа суицидальной попытки.
Частотное распределение типов суицидального поведения в изучаемой группе суицидентов было представлено следующим образом: наиболее распространенными типами суицидальной попытки были амбивалентный – 33,9% и ситуационный – 32,5%. Достоверно реже выявляются витальный (12,6%) и спонтанный (10,1%). Примерно одинаково были представлены маскированный (5,8%) и аффективный (3,5%) типы. В единичных случаях были зарегистрированы институциональный (1,1%) и резонансный (0,5% случаев) типы суицидальной попытки.
Таким образом, мы рассмотрели 8 типов суицидальных попыток, базирующихся на ключевых параметрах мотива совершаемого поступка, изменениях в потребностномотивационной сфере личности и особенностях суицидогенеза. Общими для всех типов суицидальных попыток оказались такие социальные предпосылки, как отсутствие собственной семьи и профессиональная незанятость. Вместе с тем клинические и личностно-психологические предпосылки, а также особенности самого суицидального поведения были различны, что и позволило провести определенные границы между ними.
В соответствии с результатами исследования определены взаимосвязи между типом суицидальной попытки и степенью риска повторных суицидальных действий (табл. 8).
| Риск повторного суицида | Тип суицидальной попытки |
|---|---|
Высокий |
Витальный; институциональный |
Умеренный |
Амбивалентный; спонтанный; маскированный |
Низкий |
Аффективный; ситуационный; резонансный |
Наиболее опасны витальный и институциональный типы, при которых риск повторных суицидальных действий можно квалифицировать как высокий. Умеренным риском обладают амбивалентный, спонтанный и маскированный типы. Наиболее благоприятными являются аффективный, ситуационный и резонансный типы, отличающиеся низким риском совершения повторных суицидальных действий. Полученные данные позволяют осуществлять дифференцированные подходы к реабилитации суицидентов и последующей профилактике у них повторных суицидальных действий.