ФГБУ “Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского” Министерства здравоохранения Российской Федерации
Б.С. Положий, Е.А. Панченко
СУИЦИДАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (детерминанты, клиническая динамика, типология, профилактика)
Суицидальное поведение (детерминанты, клиническая динамика, типология, профилактика): Монография. Положий Б.С., Панченко Е.А. – М.: ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России, 2015 |
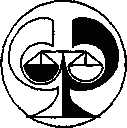
Москва 2015
УДК 616.89
ББК 56.14
П52
Монография подготовлена сотрудниками ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России доктором медицинских наук, профессором Б.С. Положим, кандидатом медицинских наук Е.А. Панченко.
Издание рекомендовано к печати на заседании Ученого совета ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России 22 декабря 2014 г., протокол №2.
П52
Положий Б.С., Панченко Е.А. Суицидальное поведение (детерминанты, клиническая динамика, типология, профилактика): Монография. – М.: ФГБУ “ФМИЦПН им. В.П. Сербского” Минздрава России, 2015. – 250 с.
Представленная монография базируется на результатах многолетних исследований суицидального поведения, проводившихся при непосредственном участии авторов. Основное внимание уделено анализу суицидального поведения лиц, совершивших суицидальные попытки. В монографии подробно описаны биологические, личностно-психологические, клинические и социальные детерминанты суицидального поведения. Отражены характеристики суицидального поведения и их современные особенности. Представлена разработанная авторами типология суицидов. Предлагается собственный вариант превентивной модели суицидологической помощи.
Для психиатров, психотерапевтов, суицидологов, клинических психологов, организаторов здравоохранения.
ББК 56.14 |
||
© Б.С. Положий, Е.А. Панченко, 2015. © ФГБУ “ФМИЦПН” им. В.П.Сербского Минздрава России, 2015. |
||
4.3. Ситуационный тип
При этом типе суицидальных попыток у суицидентов отсутствует истинное желание умереть. Смерть не рассматривается как возможный исход попытки, а основной акцент смещается на манипулятивное совершение заведомо нелетальных суицидальных действий. У таких лиц в большинстве случаев в сфере потребностей блокировалась одна, но значимая для них потребность. Суицидальная попытка всегда была спроецирована на окружающих суицидента людей. Данный тип выявлен в нашем исследовании у 34,1% от общего количества суицидентов. Соотношение мужчин и женщин было примерно одинаковым.
Пик ситуационных попыток приходился на возрастную группу от 20 до 40 лет. Это объясняется высокой значимостью межличностных отношений, обилием социальных контактов. Обращало внимание, что после 40 лет кривая ситуационных попыток резко идет вниз и полностью отсутствует в возрасте от 70 лет и старше, что опять же связано с сокращением количества межличностных связей.
Анализ социального статуса суицидентов с ситуационным типом попытки демонстрирует, что 42,3% из них (мужчины – 51,2%, женщины – 31,4%) были безработными. При анализе семейного положения выявлено, что только 35,9% суицидентов (мужчины – 30,2%, женщины – 42,9%) имели собственные семьи. Большинство остальных проживали в семьях родителей или других родственников. Таким образом, у представителей данной группы можно констатировать скорее проблему личной неустроенности, неудовлетворенности своим семейным положением, но не одиночество. Воспитание суицидентов в их родительских семьях в большинстве случаев было непоследовательным. Уже в раннем детстве закреплялись патологические способы привлечения внимания.
В досуицидальный период пациенты проявляли повышенную эмоциональность, а также высокий уровень социальных притязаний на фоне необъективной самооценки. Реакции на конфликты носили инфантильный характер. Пациент стремился во что бы то ни стало получить желаемое. Самоубийство выступало как один из инструментов воздействия на окружающих. Преобладающим механизмом психологической защиты была регрессия. В этом случае происходило психологическое возвращение в ранний возраст, что проявлялось в появлении инфантильных реакций, в частности, желания испугать значимый объект, для чего и совершалась суицидальная попытка.
Длительность пресуицидального периода была различной. В 59% случаев пациенты сообщали о том, что мысли связанные с идеей собственной смерти возникали у них еще в детском и подростковом возрасте. В случаях невозможности удовлетворения собственных потребностей и получения желаемого, они начинали фантазировать о собственной смерти. Умирание в подобных фантазиях было быстрым и приятным, а близкие выражали крайнюю степень горя и раскаяния по поводу случившегося. Некоторые суициденты демонстрировали подготовку суицидального акта (например, начинали активно интересоваться лекарственными препаратами, особенностями умирания при разных формах кровотечения, и т.п.). Они утверждали, что уже тогда их угрозы достигали желаемого эффекта, и окружающие изменяли свое поведение под давлением их скрытого шантажа. 41% обследованных сообщали о коротком пресуицидальном периоде, утверждая, что суицидальные мысли возникли у них не более чем за несколько дней до совершения суицидальной попытки. Кроме того, каждый четвертый суицидент сообщал, что суицидальные попытки предпринимались в их ближайшем микросоциальном окружении.
Характерно, что у каждого третьего пациента настоящая суицидальная попытка была повторной. Наблюдалось учащение суицидальных реакций, их генерализация, когда любой незначительный повод приводил к обострению суицидальных переживаний. Так, у одной пациентки впервые суицидальная попытка явилась реакцией на развод родителей. В следующий раз она попыталась “покончить с собой” после конфликта с молодым человеком, третья попытка была предпринята после неудачно сданного экзамена.
Мы выделили 2 варианта ситуационного суицида: демонстративно-шантажный и триггерный. В случае демонстративно-шантажного варианта суицидальная попытка развивалась в ответ на фрустрирующую пациента ситуацию. Чаще всего это было связанно с невозможностью получить желаемое на фоне интенсивной потребности в нем. Суицидальная попытка всегда предпринимается в присутствии окружающих, выглядит театрально и нарочито демонстративно, сопровождается угрозами. Подготовка суицида, как правило, отсутствует. Для совершения попытки используются доступные средства.
В случаях триггерного варианта очевидная связь между психотравмирующей ситуацией и суицидальной попыткой отсутствовала. Пациенты сообщали о событии, ставшем последней каплей. Часто суицид был неожиданным для окружающих. Тем не менее пациент предпринимал все необходимые действия, чтобы проинформировать окружающих о сути своего намерения (оставлял подробную предсмертную записку, делал соответствующие телефонные звонки, и т.п.). Однако и в случае демонстративно-шантажного, и в случае триггерного варианта типичной была неосведомленность пациента о выбранном способе суицида (чего, например, практически никогда не бывает при витальном суициде), отсутствовали элементарные знания о механизмах умирания. Более того, у многих эти представления были ошибочными и нелепыми. Так, некоторые пациенты были убеждены, что алкоголь препятствует усвоению лекарственных препаратов, или считали, что кровь будет свертываться в горячей воде лучше, чем в холодной. В этом проявлялись элементы психического инфантилизма, свойственного людям, совершающим ситуационные суицидальные попытки. Психическое состояние в пресуицидальный период большинство пациентов описывали как обиду.
Способ суицида выбирался или заведомо нелетальный, или, при более “жестком” варианте суицида, расчет делался на вмешательство в процесс окружающих. Основное количество суицидальных попыток было представлено отравлением (39,7%) и самопорезами (35,9%). Женщины почти в 3 раза чаще использовали отравление, а мужчины – нанесение самопорезов. В случае отравления пациенты часто на словах завышали количество принятых препаратов, стремились положить пустые контейнеры от таблеток на видное место. Важным для них было и то, чтобы окружающие знали, какие именно медикаменты были использованы, и учитывали это при оказании помощи. Самопорезы были неглубокими, но множественными. Это делало суицидальную попытку более драматичной. В некоторых случаях в качестве способа попытки суицида выбиралось падение с высоты. Однако попытка всегда прерывалась окружающими на начальном этапе и не приводила к реальному падению. В единичных случаях способом для самоубийства было выбрано повешение, которое предпринималось на глазах окружающих, а о своем намерении сообщалось заранее. Среди мотивов суицидального поступка преобладали препятствие к удовлетворению ситуационной актуальной потребности, неудовлетворенность значимым другим и неудачная любовь.
Реанимационные мероприятия пациентам оказывались редко. В целом постсуицидальный период протекал благоприятно, суицидальная настроенность редуцировалась, особенно в тех случаях, когда суицидент достигал желаемого, риск совершения повторных суицидов в постсуицидальный период был невысоким. При этом внимание родственников иногда ошибочно толковалось как изменение конфликтной ситуации в свою пользу. Так, 3 пациентки, предпринявшие суицидальные попытки, чтобы сохранить семью, находящуюся на стадии развода, были убеждены, что достигли желаемого, так как мужья посещали их в больнице. Однако мужчины в этих случаях отрицали, что планируют вернуться в семью. Пациентки вытесняли эту болезненную информацию и пребывали в приподнятом настроении. Несмотря на то, что риск повторных суицидальных действий в ближайший постсуицидальный период был невысоким, он сохранялся в отдаленный постсуицидальный период. Это обусловлено тем, что, во-первых, суицидальное поведение имело тенденцию к генерализации. Во-вторых, легкомысленное отношение к суицидальной попытке может привести к летальному исходу даже и при отсутствии намерения убить себя. Только в 33,3% случаев пациенты демонстрировали критическое отношение к суицидальной попытке.
В нозологическом отношении ведущей патологией среди пациентов, совершивших ситуационные суицидальные попытки, были расстройства личности и поведения – 28,1% (мужчины – 45,1%, женщины – 7,0%). Среди них преобладали истерический (41,2%), эмоциональнонеустойчивый (25%) и диссоциальный (22,2%) типы. Каждый пятый суицидент страдал шизофренией – 20,3% (мужчины – 7,1%; женщины – 36,8%) – преимущественно с психопатоподобной симптоматикой.
Таким образом, особенностями ситуационного типа суицидальной попытки являются отсутствие истинного желания умереть и наличие препятствий к удовлетворению актуальной потребности. В структуре личности отмечаются повышенная эмоциональность, неадекватность и завышенность самооценки, высокий уровень социальных притязаний, склонность к формированию психологических защит по типу вытеснения. В клиническом отношении преобладают расстройства личности, особенно истерическое, возбудимое и диссоциальное. Пресуицидальный период – преимущественно непродолжительный. Подготовка к суициду и сам суицидальный акт – демонстративные и плохо спланированные. В постсуицидальный период риск повторных суицидов был минимальным при условии разрешения конфликтной ситуации.
Больная Л. 1980 года рождения.
Уроженка Украины. Родилась вторым ребенком в семье. У матери в течение жизни наблюдались колебания настроения, психиатрами не наблюдалась. Суициды у близких родственников отрицает. Беременность матери протекала с токсикозом в первом триместре, роды в срок, раннее развитие без особенностей, соответствовало возрастным нормам. Отношения в родительской семье описывает как спокойные, комфортные, гармоничные. Вместе с тем сообщает о конфликтах со старшей и младшей сестрами, связанных с несправедливым, по ее мнению, отношением родителей. Посещала детский сад, в школу пошла с 7 лет. Училась посредственно, предпочтение отдавала гуманитарным наукам. Была лидером, всегда обладала большим количеством друзей и подруг. Посещала различные кружки и секции, однако постоянных увлечений не было, так как быстро теряла к ним интерес. Закончила 9 классов, после чего поступила в профессиональное техническое училище на специальности “парикмахер”. После училища работала по профессии, сменила несколько мест работ, со слов пациентки, по объективным обстоятельствам (неудовлетворенность условиями труда и заработной платой). Настоящее место работы полностью устраивает, в коллективе хорошие отношения. В браке с 18 лет. Имеет дочь, к которой очень привязана. Отношения в семье характеризует как неудовлетворительные, что связывает с неверностью мужа.
Ранее психиатрами не наблюдалась, впервые суицидальные мысли появились в возрасте 13 лет, когда вместе с семьей переехала в Москву. Процесс адаптации протекал сложно. Долго не могла вписаться в коллектив, найти общий язык с учителями. Резко снизилась успеваемость, что вызывало крайнее недовольство матери. К концу учебного года стало очевидно, что может быть не аттестована по алгебре. Мать пригрозила, что на все лето отправит ее в деревню и не позволит поехать с друзьями в лагерь, куда пациентка очень стремилась попасть. Именно в этот момент, при полном отсутствии антивитальных переживаний и выраженном чувстве обиды на мать, подумала о том, что если бы она умерла, то мать горько пожалела бы о таком решении. Очень быстро родились суицидальные замыслы. Придя домой и вновь вступив в конфликт с матерью, пригрозила ей, что “очень скоро ей будет не с кем ругаться, так как у нее не будет такой неблагополучной дочери”. После чего уйдя в свою комнату, выпила 3 бутылочки корвалола. Хотела выпить больше, но 1 пузырек разбился, так как от волнения дрожали руки. Находившиеся дома мать и сестра, зайдя в комнату и почувствовав запах, стали выяснять у пациентки, что произошло. После этого мать вызвала скорую медицинскую помощь, было проведено промывание желудка, госпитализация не потребовалась. Мать, напуганная происшедшим, выполнила все требования дочери. В дальнейшем относилась к ней мягче и осторожнее.
Вторая суицидальная попытка была в возрасте 23 лет, когда после ссоры с мужем, выпила 2 стакана коньяка, взяла нож и попыталась нанести себе ранение левого предплечья на глазах у мужа. Со слов пациентки, этот инцидент оказал влияние на его поведение, он стал более внимательным и корректным.
В течение последнего года отношения с мужем снова ухудшились, так как у него появилась другая женщина. Он попросил развод и “признался в своих изменах”. После этого, оставшись одна в квартире, пациентка выпила 20 таблеток донормила. Затем позвонила мужу и рассказала о своем поступке. Муж вернулся домой, пациентка была госпитализирована в терапевтическое отделение, а в дальнейшем переведена в психиатрический стационар с диагнозом: “ Истерическое расстройство личности”.
В данном примере обращает на себя внимание демонстративность и открытость суицидальной попытки, совершенной с явно манипулятивной целью. Присутствовали антисуицидальные факторы (маленькая дочь, хорошая работа). Совокупность этих признаков позволила квалифицировать суицидальную попытку как ситуационную (демонстративно-шантажный вариант).